+7(960) 744-18-33 (заказ экскурсий)
+7(953) 650-00-04 (общие вопросы)
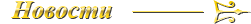 14.01.2025
Советуем посетить экспозицию «Донбасский уголь» в Центре русского искусства (площадь Мира, 2), состоящую из серии портретов современных героев России - участников специальной военной операции, которые, рискуя жизнью, рассказывают правду о военных действиях. Все они написаны углем на бумаге, что символично перекликается с темой Донбасса - крупнейшего месторождения угля. Новая экспозиция открывает цикл областных мероприятий «Кострома. Время героев», посвящённый участникам специальной военной операции и предстоящему 80-летию Победы. Вглядываясь в лица изображенных людей, можно увидеть все оттенки эмоционального состояния и разные человеческие чувства. Автор работ— руководитель документального вещания телеканала RT Екатерина Яковлева, начала писать портреты под обстрелами ВСУ. 14.01.2025
Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В 2025 году праздник выпадает на вторник. Появление этого праздника связано со сменой летоисчисления, которая произошла в 1918 году. По старому стилю, который использовался до этого, Новый год отмечался 1 января, но после реформы он сместился на 14 января. С тех пор 14 января в России стали отмечать Новый год по старому стилю — или же старый Новый год. Вскоре этот праздник прочно вошел в народный календарь. И хотя официально он не является выходным днем, россияне с удовольствием устраивают еще одно новогоднее застолье в кругу семьи. Также старый Новый год отмечают те, кто не смог встретить Новый год из-за работы или по другим причинам. После праздника череда новогодних гуляний подходит к концу, с елок снимают украшения и выносят из дома, а искусственные деревья убирают на антресоли до следующего года. Самой же традиции устраивать пышные торжества по случаю Нового года мы обязаны Петру I. Своим указом царь перенес праздник с 1 сентября на 1 января. Тогда же появилась традиция украшать дома еловыми или сосновыми ветвями и устраивать новогодние маскарады. 09.01.2025
В Костромской области Святки и колядки отмечают, начиная с Рождественского Сочельника и до Крещения Господня, то есть с 6 по 19 января. Одна из традиций в период Святок — колядование. Ряженые ходят по домам, исполняют колядки, танцуют или же разбрасывают зерно, поздравляют с праздником хозяев дома. Колядующих нужно встретить угощением и небольшими подарками (например, мелкой монетой). Кроме того, 13 января в Костроме отмечают проводы старого года: в этот день рекомендуют выбрасывать старые вещи и прощать давние обиды, чтобы войти в Новый год только с хорошими эмоциями. 14 января у предков было принято обходить дом с тремя свечами: считалось, что это помогает прогнать из дома все беды. Считалось, что во время Святок главная традиция — проводить время с семьёй, не ссориться и радовать друг друга даже по мелочам. 18 января отмечают Крещенский сочельник, а 19 января — Крещение Господне. В этот день верующие готовят кутью и соблюдают строгий пост. 07.01.2025
Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаем мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает всех вас от бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать! 31.12.2024
С Новым годом, дорогие друзья! Пусть новый год принесёт много новых достижений, крепкого здоровья и любви, пусть все задуманное сбудется. Пусть счастьем и добротой будет наполнен каждый дом. Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь светлее и ярче. Пусть год идущий будет светлым, приносящим много положительных эмоций, здоровья, достатка и улыбок на лицах родных и близких людей.
ЭТО МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ В КОСТРОМЕ ...
Заказать экскурсию в музей "Губернский город Кострома" можно по телефону: +7-960-744-18-33 (Ольга) Музей "Губернский город Кострома" расположен в самом центре Костромы, внутри Гостиного двора - в одном из корпусов Мелочных рядов, рядом с Церковью во имя Спаса Всемилостивого. Здесь посетители узнают настоящую купеческую Кострому и ощутят непередаваемую атмосферу российского провинциального города XIX столетия.
|
Поссе В. От Бадена Швейцарского до Галича КостромскогоГлавная / * КОСТРОМА ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ / Поссе В. От Бадена Швейцарского до Галича Костромского
Поссе В. От Бадена Швейцарского до Галича Костромского. (Наблюдения над жизнью больших и маленьких людей). //Книжки недели. Ежемесячный литературный журнал. – СПб: Типография М. Меркушева, Невский просп., № 8. – Октябрь 1895. – Х. Кострома; XI. Галичский тракт. – С. 161-177; Ноябрь 1895. XII. Галич; – С. 163-192. ОТ БАДЕНА ШВЕЙЦАРСКАГО ДО ГАЛИЧА КОСТРОМСКОГО. X. Кострома.
Все русские города средней руки (а к ним принадлежит и Кострома) удивительно похожи друг на друга, и мне, приехавшему в Кострому в первый раз, но предварительно побывавшему во многих других «губерниях», – дома, гостинницы и люди показались хорошо знакомыми, но... не родными. Стал бродить по улицам, и душу охватила тоска, уныние... А отчего-бы, кажется? Город чистый, просторный, краски на домах (особенно «присутственных») все веселыя – белыя стены, зеленыя крыши, – лица у чиновников и купцов спокойныя, других обывателей как-то не заметно, чего-бы лучше? Ан нет – на душе и томно, и боязно. Я чувствовал, что меня охватывает страх, совершенно такой-же, какой я испытывал, проходя в узких ущельях между двумя громадными, безжизненными скалами... Там я испытывал страх за свое ничтожество, казался себе таким маленьким, безсильным, – и тут то-же самое... В этом сонливом спокойствии в этой неуклюжей неподвижности, отпечатлевшихся и на этом большом белом здании, и на том широком, красном лице купчины, стоящаго у своей лавки, чувствуется громадная сила, перед которой боязливо трепещет моя маленькая подвижность.
Памятник русскому герою – Ивану Сусанину, напомнивший мне историческое значение Костромы, не произвел на меня надлежащаго впечатления: больно уж он аляповат и нехудожествен: в нем «бюст» (царя Михаила Феодоровича) соединен с человеческой «фигурой» в жизненной поз (коленопреклоненнаго Сусанина); такое сочетание часто встречается в живых картинах, в апофеозах великих людей, но в художественном произведении оно, по моему, не допустимо... Памятник, как гласит надпись, благодарное потомство поставило Ивану Сусанину, но его, вернее, нужно считать монументом Михаилу Федоровичу, бюст котораго возвышается на гранитной колонне.
Веселее стало мне, когда я вошол во двор Ипатьевскаго монастыря, расположеннаго недалеко от города, на реке Костроме. Монастырския здания поразили меня своею новизной и чистотой, – будто вымытыя; точно это не старинный монастырь, а его выставочная модель. Направо от входа – низенький, прямоугольный, тёмнокрасный домик (тоже совсем новенький): это знаменитый «дворец» Михаила Федоровича; перед дворцом разведен веселенький цветник, в котором как-бы для украшения разложены небольшия старинныя пушки. «Хоромы» во дворе – тесныя, полутемныя: крошечныя окна, пробитыя в толстых стенах, еле пропускают свет; самая большая – та комната, где помещались «люди царские».
Духа старины в «хоромах» мало, так-как никаких вещей от времени Михаила Федоровича не сохранилось: их все перетаскали к себе монахи, заведывавшие «дворцом» до последняго времени; с конца 60-х годов он принят в ведение министерства двора, и теперь к нему для охраны приставлен старый николаевский служака – костромич по рождению. Он лет 20 служил императору Николаю I-му и видел еще императора Александра I-го, приезжавшаго, подобно своим предкам, помолиться в Ипатьевский монастырь. Разговаривая с этим «служивым», я, действительно, почувствовал старину.
Осмотрев дворец, я захотел посмотреть внутренность монастыря и особенно его богатую ризницу. Пока сторож бегал за ризничим, я с любопытством разглядывал фрески на одном из зданий: фрески по виду были тоже совсем новенькия, но содержание некоторых говорило о давно минувших днях. На одной, например, изображено было «лечение грешных». Лечит их железными вилами отвратительный, голый коричневый чорт, Христос-же с ангелом идут прочь, отмахиваясь. Между «грешными» виден и монах в клобуке. Подошедшей ризничий, к моему удовольствию, оказался простым монахом, со смиренной вежливостью дававшим все необходимыя объяснения. Ризница богата и, если хотите, интересна: в ней много вещей, подаренных русскими царями, и облачений, вышитых жемчугом богомольными царицами. Особенно много пожертвований сохранилось от Бориса Годунова, который покровительствовал этому монастырю, основанному когда-то его предком – татарским князем, принявшим христианство. Монах отзывался о Борисе Годунове с величайшим почтением и говорил о нем в третьем лице множественнаго числа – «они».
Ходил я, разумеется, и в монастырский собор, где происходило избрание Михаила Феодоровича на царство. Проникнуться историческими воспоминаниями в значительной степени мешал мне какой-то пожилой господин, вместе со мной осматривавший монастырь. Бросая беглый, невнимательный взгляд на церковную живопись, он ежеминутно повторял: «Этакая красота! Этакая редкость!» – Снято это все у вас? обратился он строго к монаху. – Как это вы изволите говорить? – Ну, фотографии – снимки есть у вас с этой чудной старинной живописи? – Никак нет. – Ну, вот оно безобразие-то! Вот она, наша инертность, наша неразвитость, наше монашество! Да ведь весь свет-бы съезжался смотреть! Зло, просто, берет! Мы с монахом не смели возражать, но я был убежден, что расходившийся господин увлекался обязанностью русскаго путешественника восхищаться нашими древними достопримечательностями и негодовать на «нас» за то, что мы их держим под спудом. Бьюсь об заклад, что он пожалел бы 50 коп. на покупку фотографии, еслиб таковыя существовали.
Из Ипатьевскаго монастыря я отправился в Андреевский собор, где хранится величайшая костромская святыня – «Феодоровская чудоявленная икона Божьей Матери». В Костромской губернии много святынь, много чудоявленных и чудотворных икон Божией Матери, но «Феодоровская» имеет первенствующее значение: «Феодоровскую» знают каждая девчонка, каждый мальчишка в самых отдаленных деревнях: это отчасти объясняется тем, что «Феодоровскую» часто торжественно развозят по губернии. Осмотрев святыни и достопримечательности Костромы, я зашол закусить в одних из простых трактиров. Большая, светлая комната, уставленная столами, покрытыми грязными скатертями; места много, но нет уютнаго уголка, где-бы можно было уединенно усесться и закусить не на показ другим. Я на минуту нерешительно остановился и окинул взглядом «гостей»: за «парами чаю» и «кошелевкой с огурцом» сидело несколько человек в поддевках, с потными лицами, намаслянными волосами и серебряными цепочками на шее. Разговор шол видно деловой; слышались отрывочныя фразы: – А ты-бы его к мировому. – Я сам эту юридицию-то понимаю. – Я его под орех отделаю, и т. д. За другим столом сидел одиноко худощавый, седенький старик в потертом пиджаке. Его маленькое, морщинистое лицо с реденькой бородкой и светлыми подвижными глазами так посмотрело на меня, как-будто приглашало свести с ним близкое знакомство. Я пошол на это приглашение, подсел к старичку и вскоре разговорился с ним. В трактир ввалилась целая татарская семья: среди четырех молодых татарок в их характерных головных уборах, молодцовато выступал стройный татарин в кафтане тонкаго сукна, с голубой бархатной ермолкой на голове. – Эй, паря! закричал он чистым русским языком, хлопнув хлыстом по своим сапогам-бутылкам, – Чаю! Да слышь, живей! – Сколько надо-то? грубо откликнулся половой. – Видишь небось сколько! Должон сам знать! – Что я, считал жен-то твоих, что ли? снова огрызнулся половой. – Ну, не разговаривай!.. Живей! И семья с шумом уселась невдалеке от нас. – Ишь, петух какой! захихикал мой сосед, обращаясь ко мне, – И ведь, полагать надоть, это все евоновы жены; четыре бабы, – и ведь вот ходит с ними... ничего себе, все это ему по закону полагается; а по нашему сейчас тебе – «прелюбодей». – Ну, и у нас многие живут по-татарски, отозвался я. – Ох, это вы точно, совершенно правильно сказать изволили... Ох, Господи, грешны мы! А вот что у них действительно хорошо, – это насчет вина: ни под коим видом пить не полагается. А у нас сколько народу от этаго зелья разсуждения лишаются... Хоть Махомед, а умный на этот счет был ихний пророк. – Ну, да я полагаю, у татар многие теперь пьют по-христиански. – Это вы точно... совершенно справедливо... Пьют, как не пить, сами с ними гуляли и в Нижнем, и здеся. Ох, Господи, грешны мы... – А вы что-же, здешний будете? спросил я. – Нет-с, так только, чтоб Матери Божьей Феодоровской о грехах наших помолиться, зашли... И раньше тоже по этому-же случаю бывали. Теперича больше по пути: из Кронштадта в Новый Иерусалим пробираемся... – Это вы не у отца-ли Иоанна в Кронштадте-то были? – Совершенно справедливо угадать изволили. У него самого. – Что-же, удалось повидать? – Помилуйте, как-же нам не повидать, мы ведь у них не в-первой... Оно, конечно, теперича затруднительнее с ними разговаривать, потому народу тьма тьмущая, ну да опытный человек завсегда облегчение найдет. – А что-же, извините за вопрос, у вас самих-то болезнь какая или горе, что вы к отцу Иоанну ходите? – Как-бы это вам изобразить?.. Сокрушение у меня душевное... Вот уж пятый год по святым местам хожу; был и в Киеве, и у Тихона Задонскаго, и в Иверском, и на Валааме, но нигде, скажу вам, того утешения не получал, как у отца Иоанна. – Какое-же сокрушение у вас? – А был я, надо вам доложить, кондуктором, обыкновенным товарным кондуктором, и попади я в крушение: ногу мне, значит, испортило, от службы отставка... А был у нас обер О., хороший человек, со знакомствами, и говорит мне: «Хочешь, С-ов, заграницу, за ранеными ходить?» (Тогда, как-раз, турецкая кампания началась). «Отчего-же, говорю, – заграницу, так заграницу». Приняли меня, научили всему, как следует, и поставили в санитары в Яссы, в санитарный отряд... Ну, и был я там, значит, санитаром; ничего, слава Богу, деньги на жил хорошая. – Да разве там жалованье было хорошее? – Какое там жалованье – пустяки сущие. А доходы большие... Кабы совести не знать, более-бы сорока тысяч привезти можно было. Оно, конечно, все, что покрупнее, офицерские чемоданы с золотом и все этакое, тем, кто повыше, шло, ну, а наш брат «подушечным» пробивался: что под подушкой нашол, то и берешь, а народу на руках перемерло – страсть. Иной раз пустяк, а иной раз и золотой вытащишь... Ох, грешны мы... – Что-же, вас верно теперь совесть мучит, что вы «подушечное» скрывали, а не представляли его в Красный Крест? Это и есть ваше сокрушение? – Нет, это я так только по пути разсказал. Оно, конечно, по совести следовало-бы в Красный Крест представлять, да ведь не я один, – все так делали. Нет, сокрушение мое больше. Приехал я в Рассею из заграницы, благодаренье Богу, с капиталом, сыну образование дал, в дело вывел. Вышел он у меня господин господином, музыкальный магазин открыл, большой оборот имеет... Все-бы слава Богу, а тут-то и приключись... Ох, Господи, грешны мы… – Что-же такое? – А вот что, господин: возьми он да и женись... на жидовке! Как есть на настоящей жидовке! – Да ведь она креститься должна была? – Это само-собой, окрестилась. Да разве из жидовки крещеньем что выживешь? Была жидовкой, жидовкой и осталась. И пошли у нас с той поры с сыном нелады, а сын-то единственный, сами понимать можете. И свихнулся он с веры... Стыдно сказать, а надо... (Старик наклонился ко мне и заговорил шопотом). Просто в Бога верить перестал! И не боится, прямо мне в глаза говорит: «Что вы, тятенька, все по богомольям ходите, сапоги только даром рвете. Высшая наука давно уже Бога не признает!» Каков? А ведь сын, сами понимать можете... Вот оно, сокрушение-то... Ох, Господи, грешны мы! – Ну, что-же? Разсказывали вы отцу Иоанну о вашем сокрушении?
– Да помилуйте, зачем разсказывать? Отец Иоанн и так все знает. Пришол это я к нему в первый раз, взял номер за рупь, в пакет трешницу положил, сижу, жду, а сам как в лихорадкеюв трясусь, потому такое лицо, божественной, можно сказать, благодати полное... А вошол он, – и на сердце и на душе просто стало. Благословил и говорит: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» – и остановился. «Аминь», говорю. «Прочти» говорит, «Царю Небесный». Прочол. И начал он со мною толковать все по-просту, вот как мы с вами, и все мое сокрушение сам без слов моих узнал. «Плюнь, говорит, на них! Опомнятся, сами к тебе придут и в ноги тебе кланяться будут». Старик остановился, вынул табакерку и с аппетитом начинил себе обе ноздри. – Вот тоже, продолжал он, – насчет табаку заметил, что нюхаю, – а я ему об этом ни словом. «Не нюхай, говорит, – самое пустое и ненужное занятие». – Привычка, говорю, ваше преподобие, никак отстать невозможно. – «А как-же, говорит, ты по пути к Царствию Божию шествовать хочешь, коли таких пустяков оставить не можешь?» И так посмотрел, что всего меня пронял. – Однако-же вы вон все-же нюхаете? – Ох, надо-бы бросить, да все шалость наша. Вот от вина отстал, смотреть теперь не могу, а табаком все еще балуюсь. Одно слово, грешны мы. Однако вон уж ко всенощной заблаговестили: во храм Божий идти надо. Счастливо поживать, господин! XI. Галичский тракт.
Несколько лет тому назад я бродил по «национальным дорогам» Франции, удивлялся превосходному их состоянию (ни колеи, ни ямки, точно полотном устланы) и сожалел, что это удобство, это богатство пропадает даром: по этим дорогам почти никто не ездит, так-как железные пути бегут рядом с ними во все уголки Франции. Проезжая в этом году по галичскому тракту, я был поражен бойкостью движения по нем и в тоже время страдальчески ощущал колеи, ямы, ухабы и прочия орудия пытки этой дороги. Один иностранец, которому, как и мне пришлось зараз сделать по галичскому тракту около 100 верст, вспоминал об этом ужасном событии с нервною дрожью в голосе, со слезами на глазах. И действительно, каково было его бедным иностранным костям, если и мне – русскому, казалось, когда я в первый раз совершал галичское путешествие, что чорт, и притом такой-же безпощадный, как изображен на фреске Ипатьевскаго монастыря, схватил мое бренное тело в свои мускулистыя лапы и всеми силами старался вытряхнуть из него душу: то размахивал он его широко и отрывисто, так ударяя головой и другими частями о кибитку, что и кости, и кибитка трещали, то ожесточенно тряс его «мелкою дробью», так-что зубы стучали и дрожало каждое мышечное волокно. А жаль, что нельзя спокойно радоваться открывающимся кругом видам. Виды – веселые, красивые. Лесов здесь сравнительно мало, – больше синяя даль, разноцветныя волны холмов и масса белых церквей на сером фоне деревень. Белые храмы Божьи – лучшее украшение русскаго деревенскаго вида, и нигде я не видел их столько, как между Костромой и Галичем; с иных мест начтешь их сразу больше десятка. Это обилие церквей стоить в зависимости от древности края, от ранняго распространения здесь православнаго, московскаго благочестия, но не от густоты населения. На 120-верстном протяжении галичский тракт пересекает, кроме нескольких небольших сел и деревень, всего один заштатный город Судиславль и одно крупное село Воронье.
Судиславль (около 2000 жителей) – раскольничье гнездо; еще в сравнительно недавнее время он был населен исключительно раскольничьими изуверами, но и в настоящее время там существует толк «душителей» или приверженцев «красной смерти», которые полагают, что только задушенные «красною подушкой» войдут в царствие Божие; поэтому больным не дают умирать естественною смертью, а медленно, при пении священных песен, душат, наложив подушку на рот и усевшись на нее; впрочем, и здоровые, если пожелают поскорее пройти в царствие Божие, могут воспринять «красную смерть». Несколько лет тому назад молва упорно приписывала смерть одного известнаго судиславльскаго купца «красной подушке», но полиция не удалось установить фактов, достаточных для начатия дела. Несомненно, однако, что новыя веяния разрушают и судиславльскую раскольничью крепость, и «красная подушка», если еще не отошла, то скоро отойдет в область «страшных преданий». В николаевския времена судиславльским крезом был один известный фанатик-начетчик; теперь-же там царит «мильонщик», купец Третьяков, хотя и женатый на раскольнице, но сам православный. Третьяков – крупная величина: у него несколько заводов (винокуренных и кожевенных), масса земли (до 30 усадеб), 16 домов в одном Судиславле, широте торговые обороты. Его судиславльский дворец устроен великолепно: богатая обстановка, паркетные полы, зимний сад и т. п. Лошадям и экипажам его могли бы позавидовать видные петербуржцы. Про его финансовую энергию местные жители разсказывают чудеса: он всюду поспевает сам и всюду преуспевает. В противоположность другим судиславльцам, человек он светский и, несмотря на ограниченное образование, умеет поговорить о литературе, пишет, говорят, гладкие стихи, путешествовал по Европе и пытался дать детям настоящее образование.
Воронье известно далеко за пределами Костромской губернии как «разбойничье село»; «воронские зуботыки» – одна из костромских достопримечательностей. Около Воронья в былое время находилось наиболее «бойкое место» галичскаго тракта, и в воронском топком болоте под ударами грабителей погибло много проезжих людей. Крик «караул» вблизи или на улицах Воронья был сигналом, по которому во всех окнах гасли огни и все воронские обыватели притворялись крепко спящими вместо того, чтобы спешить на помощь. «Новыя времена» разбили и воронское «разбойничье гнездо». Дорога минует теперь проклятое болото, главари-грабители сосланы в Сибирь, о серьезных «шалостях» больше не слышно, но все-же на «воронских зуботыках» есть «особый отпечаток». – В Воронье, говорил мне один старожил, – не оставляй ничего на улице, не забывай сбруи на лошади – живо стибрят. Ямщики воронские безобразничают больше других, стараются заехать в сани плетущагося мужика, «стегануть» его лошаденку и т. п. Один мужик разсказывал мне, что воронский ямщик въехал ему прямо на спину и лошади копытами разорвали ему тулуп. Он все-же не решился жаловаться на ямщика, хотя было много свидетелей. – Пожалуйся на них, говорил он, – так жизни решишься. Движение по галичскому тракту громадное: едут не только из Галича, но из Солигалича, Чухломы, отчасти Макарьева и Буя. На каждой полуверсте кого-нибудь да встретишь. Вот прогрохотала почта с почтальоном, прилипшим к вершине горы из ящиков и тюков, вот прозвенела тройка с «работой»; (* «Работой» называют проезжих, едущих на почтовых по прогонам; большинство пассажиров (главным образом отправляющиеся на отхожие промыслы) едут на «вольных» лошадях, нанимаемых в особых частных предпринимательских конторах.); вот протрусила черная, со всех сторон закрытая, кибитка «вольных»; уныло проскрипела телега с серыми острожниками, окруженная запыленными, вялыми солдатами; смиренно прошмыгнула тележка с двумя краснощекими монахинями в черных платках; протянулся безконечный обоз с извощиками, уснувшими на возах; мягко качаясь на рессорах, прокатилась изящная помещичья коляска с господином в очках и дамой в модной шляпке; подымая клубы пыли, торжественно проносится пуг чудоявленной иконы: впереди скачет верхом урядник, за ним в коляске – становой и, наконец, катится карета, запряженная шестеркой, с священниками, бережно держащими икону, а позади всех грохочут тарантасы с певчими... Прохожих сравнительно мало: «на чужую сторону» теперь почти все ездят, пешком идут лишь «странники» и «странницы». Всякий народ есть между ними, не мало нищих худшаго сорта, прикрывающихся «богомольем» и ханжеством, но есть и люди с верою в сердце и тяжелым крестом на плечах. Хорошо помню одну удивительную богомолку, заходившую к нам в усадьбу прошлою весной. Высокая, стройная девушка лет 20 с небольшим. Синяя душегрейка, короткая юбка, высокие желтые (не смазанные) сапоги, котомка за плечами, палка в руках; серый платок покрывает не только голову, но и всю верхнюю часть лица, так-что виден только красивый рот с бледными безкровными губами. Сухия, бледныя руки с длинными аристократическими пальцами повисли как плети, когда она, усталая, опустилась на скамейку около нашего дома. Молчаливая, стесняющаяся, она сначала на все вопросы отвечала односложными словами, чуть слышным голосом; но в конце концов удалось затронуть чувствительный струны ея сердца – и она, вначале сбивчиво, недоверчиво, но потом, увлекшись, связно и трогательно разсказала свою горькую судьбину. Дочь бедной солдатки, она с малых лет терпела сиротскую нужду. Нередко маленькая Акулька оставалась одна в нетопленной избе, по целым суткам, с коркою хлеба, пока мать ходила «по Миру» собирать «кусочки». Годам к двенадцати судьба ей слегка улыбнулась: мать пристроилась с нею вместе у «добрых людей» прачкой; те приголубили Акульку и научили ее грамоте, которую она необычайно скоро усвоила. Девушка стала поправляться, полнеть, хорошеть, но счастье продолжалось недолго; «добрые люди» куда-то уехали, Акулине пришлось идти в работницы, одной, без матери, к «чужим людям». Тут она «всего натерпелась». Непосильная работа, ругань, побои!.. Силы изменили хрупкой девушке, она сразу сломилась; в голове поднялся шум и «зуд», ноги и руки затряслись, начались какие-то припадки. Ее отправили в деревню к матери и там стали «лечить»: парили в бане, обливали ледяной водой, мазали дегтем, заговаривали, – ничто не помогало. Свезли к фельдшеру, тот поставил банки, но не обнадежил: «Вези домой, сказал он матери, – кровь у ней захватило, трудно в этом нашей науке помочь, – помрет». – Привезла меня мамонька, разсказывала Акулина, – положила под образа, а сама стоит причитывает: «Лежишь ты, моя ненаглядная, как свечечка восковая! Умрешь ты, красавица, оставишь меня одинокую!» А я лежу и чувствую, что бьется во мне душенька, ищет себе выхода... И стала я молиться матушке Царице Небесной, чтоб освободила Она ее... И вдруг вижу я, залилась изба светом ярким, и стоит Царица Небесная со младенцем на рученьках и таково ласково смотрит на меня... И вижу, будто уж не в избе я, а в лесу, на поляночке стою, а кругом все ели высокия, а посреди поляночки лежит камень белый, а у камня того стоит Царица Небесная... И говорит она, но говорить как-будто без голоса, внутри меня самой говорит, что надо мне грешной взять камень тяжелый, положить его на головушку и идти с ним на богомолье, к Царице Небесной Феодоровской. Пробудилась я – и легче стало мне; разсказала, что видела, мамоньке, и пошли мы с нею в лес, и нашли мы поляночку, и нашли мы камень белый. Подняла его мамонька, положила мне его на головушку, и стало головушке легче, позамолк в ней зуд горючий. И пошла я в Кострому к Матушке Феодоровской; проводила меня мамонька до девятой версты, а на девятой версте поплакали, попрощалися. Пошла я вперед и слышу – кричит мне мамонька: «Прости, Акулинушка, прости, родимая!» А я кричать не могу, только палочкой по дереву стучу. И кличет мне мамонька: «Слышу, Акулинушка, слышу тебя, родимая!»... Иду я и стучу, а она все откликается, все тише и тише, и таково сжалось у меня сердечко, как замер в последний раз голос мамонькин, – только стук мой разносится. Трудна была дорога моя... Надсмехалися прохожие, что камень я несу, допрашивали, допытывались, зачем я это делаю. Молчала я, крепилася, да наконец не вытерпела, одной страннице тайну поведала. Как разсказала я, – разболелась у меня снова головушка, давить камень, жжет, не снести его; упала я у дороги в безпамятстве. Вижу, стоить передо мною Царица Небесная, горючими слезами заливается, и внутри меня говорит Она, что недостойна я камень Ея на голове своей нести, что должна я его у дороги оставить. Пробудилась я, расплакалась, положила камень и пошла по святым местам... В голове зудит, глазенки слипаются, ноженьки подкашиваются; пройду две версты – и остановлюсь: нет силушек дальше идти... Странница остановилась, заволновалась, руки и ноги затряслись у нея. – Грешная я, болтливая, клялась я молчать, а теперь снова все разсказала. С трудом удалось ее успокоить. – Куда-же ты теперь пробираешься? спросил я. – В Кронштадт, к отцу Ивану, его хочу попросить, чтоб помолил он за меня Царицу Небесную. – Что же, от Костромы-то ты на чугунке поедешь? – Нет, барин милый, пешком; к осени, думаю, доберусь. Она осталась у нас ночевать, от чаю наотрез отказалась («не пила, негоже теперь привыкать»), выпила лишь стакан молока и съела кусок хлеба. На ночь попросила книжку почитать. Ей дали стихотворения Некрасова; она посмотрела и вернула назад, спросив лучше чего-нибудь божественнаго. Псалтырем осталась очень довольна. На другой день, рано утром, поплелась она по большой дороге. Добралась-ли она до отца Иоанна, утешил-ли он ее? Или все идет она еще и несет свою тяжелую, зудящую голову, или, может быть, успокоилась она и отдыхает где-нибудь на чужой стороне, в сырой земле-матушке?..
************************************************** ОТ БАДЕНА ШВЕЙЦАРСКАГО ДО ГАЛИЧА КОСТРОМСКОГО
Ясный осенний день. Бархатная озимь ярко зеленеет среди пожелтевших лугов; золотом и багрянцем пестреют березовыя рощи; кровью залились нежныя рябины; бледными листьями робко трепещут полуобнаженныя осины. Небо так чисто; его прозрачная синева спустилась на землю, и в ней купаются отдаленные холмы с черными щетками еловых лесов. Никогда природа не бывает такой нарядной и пышной, как в хороший осенний день! Солнце греет, но не жжет, легкий воздух проникает все существо, бодрит и оживляет... Хорошо! Не злит даже ужасная дорога, по которой я тащусь в Галич на паре мужицких коняг. Много значит и то, что у меня премилый спутник – сельский священник, отец Алексей. Одет он в старый подрясник, подпоясанный матерчатым кушаком; из-под порыжевшей круглой шляпы болтаются две маленьких косички и выглядывает круглое, краснощекое лицо с реденькой бородкой; добродушные черные глаза смотрят на этот раз спокойно: разговор идет о деревне, о ея радостях и горе. Совсем другое дело, если бы речь коснулась «либералов» или Толстого с его толкованьем Евангелия: тогда-бы черные глаза забегали озабоченно, безпокойно... Отец Алексей – настоящий православный пастырь, от него не ускользнет ни один еретический, «либеральный» взгляд, в какую-бы невинную форму он ни был обделан: отец Алексей найдет ересь и в народных сказках Толстого, и в «Соловках» Немировича - Данченко, и в какой-нибудь биографии Крылова. И он всегда готов дать отпор, он не смолчит перед либералом из уважения к званию или образованно; но вместе с тем он не выставляется своею набожностью, не ханжит. Любимое его занятие – чтение богословских сочинений. Он читает с увлечением, до самозабвения. Это у него прямо страсть. Мелких страстишек за ним не водится; в противоположность большинству сельских священников, он не пьет, не курит, не играет в карты; поэтому он с спокойною совестью мог организовать в своем приходе общество трезвости, где точно так-же, как и в другом большом галичском обществе трезвости члены дают обыкновенно зарок не пить известное время, иногда каких-нибудь 2 недели. Подобныя общества, разумеется, не имеют такого значения, как настоящия, с отказом от спиртных напитков на всю жизнь, но и на том большое спасибо! Мы подъезжаем к большому селу; здесь резиденция местнаго кулака Петра Иванова Откусилова. Откусилов на все руки мастер: он держит трактир и лавочку, скупает и перепродает хлеб и др. сельскохозяйственные продукты, занимается извозом и наконец ведет у себя сельское хозяйство, и ведет не кое как, а по новому: раньше всех соседних помещиков завел он у себя машины (молотилку и зерносушилку). Дело у него идет отлично; и хлеб, и скот он умеет покупать по сходной цене, так как и крестьяне, и помещики у него большею частью в долгу, в зависимости. Особенно удобно устраивается он с перепродажей скота. Купит, напр., овцу у крестьянина весной с тем, чтобы тот пас ее до осени, а осенью продаст ее, взяв процентов 35 прибыли. – Вам нужна овца? говорит он покупателю. – С нашим удовольствием; у крестьянина такого-то давно уж у меня славная штука куплена, можете получить. Жалоб вы от него никогда не услышите: у него все всегда «слава Богу». Характер у Петра Иваныча, когда он трезв, сдержанный, деликатный. Приходит, напр., к нему как-то пьяный мужик из должников. Петр Иваныч требует от него уплаты: – Пора-бы, паря, деньги заплатить. – Денег захотел? кричит выпивший мужик. – Вот те деньги! – и хватает Петра Иванова за волосы и начинает усердно качать взад и вперед. Петр Иванов молчит, не сопротивляется; мужик «покачал» да и бросил, а тот говорит: «Валяй еще!» – Изволь, говорить мужик и опять начал качать. – Ну, теперича будет, теперича пойдет на тебя жалоба в волостной суд. Зато иногда, когда он подопьет, с ним не шути: в нем просыпается зверь, он ничего не побоится. Приходит к нему как-то один мужик за получкой денег. Петр Иванов, сильно подвыпивши, рубит большим мясничьим ножом говядину. – Чаво тебе? спрашивает. – Да вот денег-бы, что выдать обещали! – Вот тебе деньги! – да ножом прямо в мужика – «на палец в косяк врезался около самаго виска». К обманам Петр Иванов не прибегает: «Незачем себя пачкать, и так Бог подает; наше дело чистое», говорит он. Остановились мы с отцом Алексеем около лавочки Откусилова, мази купить, колеса подмазать, да он так «обидно» дорого запросил, что мы и на скрипучих решили дальше ехать.
Вот и Холм с знаменитою в округе «соборною (* В честь «Собора Пресвятой Богородицы».) церковью». Любопытная старинная архитектура: деревянное круглое, желтое здание с пристроенным алтарем; вокруг открытая галерея; на передней части зеленой крыши – башенка с пятью маленькими, тесно прижавшимися друг к другу посеребренными куполами. Церковь эта с точностью воспроизводит старинный храм, много веков стоявший на этом-же месте и пришедший, наконец, в такую ветхость, что его пришлось разобрать и перестроить на средства местнаго кабатчика. Предание гласит, что старая «соборная» церковь была выстроена во времена Иоанна Грознаго двумя «Божьими людьми» на своих плечах таскавшими бревна на гору из дремучаго леса, на месте котораго теперь болото с мелким кустарником. Они похоронены, будто-бы, под алтарем, и там теперь постоянно поднимается земля: они требуют, чтоб их открыли; но архиерей до сих пор не дает еще разрешения на раскопку, полагая, что поднятие почвы, может быть, объясняется просто геологическими причинами. Кому-то выпадет честь открытия мощей? Иныя бабы думают, что оне откроются местному мельнику из дворян Банковскому: «больно уж у него душа проста». Действительно, этот мельник-дворянин, диковинный богатырь по сложению, отличается необычайным добродушием и честностью.
Вон, наконец, и Чолсма, прозванная «русскою Швейцарией»: Сколько у нас этих «Швейцарий»! Куда ни придешь, старожилы непременно советуют посмотреть какое-нибудь красивое место, – «настоящую русскую Швейцарию». Долина Чолсмы в самом деле живописна, но ея зеленый овраг с бегущей внизу светленькой речкой не поразит, не заставит остановиться и залюбоваться, как это невольно сделаешь, когда в лучах заходящаго солнца блеснет широкое озеро и сверкнет белокаменный Галич. Какая масса церквей, сколько оригинальных «глав» и колокольных вершин! Точно это не город, а громадный старинный монастырь. Солнце уже зашло, луна еще не успела разгореться, когда мы въехали, наконец, в Галич. Полумрак, уличная грязь, неуклюжие ряды, трактиры с несущимся из них запахом сивухи и перепрелых щей... Неужто это тот самый красавец Галич, которым я любовался издали час тому назад?!
На другой день рано утром я отправился осматривать город. При утреннем свете он показался мне куда приветливее, чем вечером. Взобравшись на городской вал, я стал любоваться Галичским озером. Это большое озеро (12 верст в длину, 10 в ширину) слегка напоминает некоторыя швейцарския, но в противоположность последним оно поражает своею безжизненностью: ни пароходнаго дыма, ни одного белаго паруса, только черным пятном качается рыбацкая лодка; безжизненной казалась-бы и волнистая, красноватая линия противоположнаго берега, еслиб на ней не белели храмы Божии. Тишина, безлюдье и в самом городе: точно кладбище; жалобные выкрики снующих галок лишь усиливают это впечатление. А все-же красиво! Как оригинальны эти конусообразныя колокольни, выкрашенныя в один белый или розовый цвет, прорезанныя множеством разноформенных окошечек. И какое сильное впечатление получилось-бы, еслиб сразу застонали, зазвонили колокола 12-ти галичских церквей, и двери их распахнулись-бы, и из них вышло-бы духовенство в белых облачениях, заколыхались-бы в воздухе золотыя хоругви, запестрел-бы безконечными рядами народ со свечами в руках! А ведь нечто подобное бывает в Пасху и в другие большие праздники.
Пройдясь по городу, я зашол на почту, где привел чиновника в смущение, отправляя в редакцию рукопись под заказною бандеролью. Он не соглашался принять ее, развернул, пересматривал и готов был даже читать, еслиб его не остановили мои протесты. – Впрочем, редакция сама знает, можно-ли напечатать, пробормотал он, видимо успокоивая себя. Когда соответствующий параграф был мною найден и недоразумение было улажено, сконфуженный чиновник начал оправдываться. – Сколько времени служу, говорит он, – никогда еще не приходилось заметить, чтоб отсюда посылали рукописи в редакцию. Я охотно поверил ему. Хорошо еще, что хоть сюда что-нибудь приходить из редакций. Мне удалось добыть список газет и журналов, которые получаются в самом Галиче; и в части его уезда (* В Галичском уезде корреспонденция получается не только через галичскую почтовую контору, от которой я получил список, но и через три другия почтовыя отделения). Если не считать обязательных оффициальных изданий, то в списке числится 294 экземпляра различных журналов и газет. Надо заметить, что в Галиче считается около 6000 жит. (В маленьком Бадене Швейцарском 3500 жит., но там в некурортное время, несмотря на три местных органа, одна лишь радикальная «Цюрихская Почта» выписывается в 600 экземплярах!). Выходя с почты, я наткнулся на толпу баб с распечатанными письмами. Иныя, видимо, с страшным напряжением сами разбирали неровныя каракули, другия – неграмотныя – просто усиленно всматривались, как-бы надеясь, что их сразу осенит и оне узнают дорогую весточку. Для здешняго деревенскаго населения, три четверти мужской половины котораго живет большую часть года «на чужой стороне», почта имеет громадное значение. Мало кто ждет с таким нетерпением письма и «гостинца» (т. е. денег), как баба, муж которой работает где-нибудь в Питере. (* Из здешней местности едут «в чужую сторону» маляры плотники, бондари, стекольщики, гробовщики и «кошатники». Последния 2 ремесла считаются наиболее выгодными. «Кошатники» кормят «печенкой» по утрам кошек в петербургских лавках и получают за это определенное месячное жалованье. У каждаго есть свои места, который он продает, оставляет по духовному завещанию и т. д. Иные, особенно ловкие, набрав мест, нанимают на себя бедняков, а сами уезжают в деревню, получая «чистый доход», который у одного, говорят, доходит до 2.000 руб. в год.). К сожалению, для деревенскаго жителя, особенно для неграмотной бабы, отправка и получение писем сопряжены с большими трудностями и расходами. За письмами приходится нередко идти несколько десятков верст или платить волостному старшине за их доставку. За почтовую марку мужик платить на месте вместо 7 коп. – 10; по этой цене, по крайней мере, продает марки писарь почтовой станции, около которой я живу. Первый визит в Галиче я сделал одному из членов земской управы – крупному местному помещику, учившемуся 2 или 3 года в Петровской академии. Я завел разговор о сельском хозяйстве. – Я давно уж на него махнул рукой, все сдал мужикам исполу, сказал член управы:– здесь хозяйничать невозможно – один убыток. Это типичный отзыв для одной части здешних помещиков; другие, напротив, говорят, что в Костромской губернии можно прекрасно хозяйничать, но на первое место надо ставить не хлебопашество, а сельскую промышленность. Последние, мне кажется, правы, и я полагаю, что в развитии сельской промышленности лежит вообще будущность большинства хозяйств северной России. В Галичском уезде я имел возможность познакомиться с хозяйством двух братьев, которые могут служить типом мелких сельских промышленников. Отец их был жандармским полковником, выслужившимся из нижних чинов. Скопив во время долгой службы капиталец, он купил именьице в глуши Костромской губернии. Сыновей своих он отдал в гимназию, но они оба оказались «неудачниками»: ничто не могло заставить их интересоваться латинской и греческой грамматикой, – все их интересы были связаны с деревней, с птицами, телятами, лошадьми. Гимназию им вскоре пришлось бросить (старший вышел, кажется, из второго, младший из третьяго класса), но они, живя в деревенской глуши, не пропали, а выработались в деловых людей. Они отвыкли от всякаго комфорта и привыкли работать не по-барски, а по-мужицки; книгу они не забросили, но стали читать не латинскую грамматику, а сочинения по сельскому хозяйству и промышленности. В своих маленьких средствах они потихоньку, шаг за шагом устроили у себя целый ряд сельско-промышленных предприятий. Паровая мельница, сыроваренный и маслобойный заводы, конский завод, птицеводство, огородничество, пчеловодство, – чего только у них нет! Все это в небольших размерах, но ведется образцово. Их хозяйственные принципы – заводить все по возможности лучшаго качества и делать все по возможности самим. Они не остановились перед устройством стеклянных ульев, перед выпиской издалека хороших пород свиней, уток и т. д. Осматривая их имение, поражаешься простотой и удобством всего промышленного хозяйства, а еще более удивляет отсутствие рабочих. Хлебопашество, правда, отступает у них совершенно на задай план; даже прекрасной жнейкой они пользуются, главным образом, «промышленно», отдавая ее соседям напрокат. Об «идейной» стороне дела они не заботились, но она явилась как-бы сама собой: их успех привлек внимание соседних священников, учителей и т. п., и те нередко приезжают к ним посмотреть и «поучиться»; между ними образовалось некоторое общение, нечто вроде «сельско-промышленнаго общества». За «сельскую промышленность» хватаются вообще все те хозяева, которые намерены «обновиться» и приспособиться к изменившимся условиям, а не только стонать и взывать к правительству о помощи. Многие помещики и крестьяне стали, напр., строить в своих имениях «порошковые» заводы сухой перегонки дерева для приготовления уксусно-кислой извести («порошок») и древеснаго спирта. Устройство этих заводов обходится очень дешево, «химики» вербуются из пропившихся «золоторотцев» и получают всего по 8 рублей на своих харчах (* Там, где хозяин не сам руководит производством, нужно еще иметь мастера, получающаго около 20 рублей в месяц на своем содержании) в месяц, а между тем чистый доход весьма велик. Подумывают также и о мыловарении. Вообще «обновление» идет на сельско-промышленной почве. Мне недолго пришлось пробыть у члена управы; как человек крайне занятой, он мог уделить мне лишь 30 минут. Прощаясь, он любезно пригласил меня на охоту, устраиваемую Новообразованным местным охотничьими обществом в 20 верстах от Галича. – Вы водку пьете? спросил он меня при этом. – Нет. – Ну, а вино? – Тоже неохотно. – Ну, так вам, пожалуй, будет неприятно смотреть на пьяных... иные не любят. Я хотел любезно улыбнуться, но не мог: слишком уж серьезно часто слышу я здесь разговоры о пьянстве... Люди вполне интеллигентные разсказывают о своих и чужих «жестоких выпивках» с благодушием и наслаждением. – Зачем вы напиваетесь? спрашивал я некоторых, казалось-бы, умных и симпатичных людей. – Да, помилуйте, батенька, какое-же веселье без выпивки? Да тут от скуки околеешь, коли не будешь пить. Нужно-же чем-нибудь тоску запить! Этим господам не мешало-бы познакомиться с следующими классическими словами знаменитаго базельскаго физиолога Бунге: «К мучительным чувствам, которыя заглушает алкоголь, принадлежит и чувство скуки. Скука-же, как и чувство усталости, служит саморегулятором нашего организма. Как чувство усталости нудит к покою, так мука скуки побуждает человека к работе и усилию, без которых атрофируются мускулы и нервы и невозможно здоровое состояние... Большинство людей были-бы в конце концов принуждены как нибудь напрягать свой мозг и мускулы, чтобы снова вернуть себе покой, удовлетворение и заполнить собственную пустоту, если-бы у них не было алкоголя. Алкоголь легко и нежно освобождает их от демона скуки. Пьяницею и пьющим обществом никогда не сознается собственная пустота и ничтожество. Они не нуждаются ни в каких интересах, ни в каких идеалах. У них ведь имеется блаженство и удовлетворение наркоза. Нет для человека ничего более рокового, ничто в такой степени не подтачивает и не разрушает лучшее, что у него есть, ничто не убивает с такою непогрешимою верностью всякий след энергии, как это делает продолжительное заглушение скуки алкоголем».
От члена управы я направился осматривать земскую больницу. Она произвела на меня хорошее впечатление: светло и чисто. Больных на этот раз было 29 (чуть не половина – сифилитики), обыкновенно же бывает меньше; из уезда в больницу попадают лишь в самых редких случаях; большинство лежат дома и мало пользуются медицинскою помощью уже по одному тому, что в уезде в настоящее время не живет ни одного земскаго врача, а до Галича от иных деревень верст 50, если не больше. И в здешней местности, как и повсюду в России, больных, особенно хронических, масса. И здесь, как всюду в России, убеждаешься, как неверно мнение, что наши крестьяне отличаются особенно хорошим здоровьем и редко болеют... Одних сифилитиков не оберешься, а сифилис болезнь цепкая и вызывает впоследствии всевозможные заболевания в различных органах. Сильно (особенно между женщинами) развито и малокровие. Я видел несколько случаев истерии, (видите, это тоже болезнь не только высших классов!), развившихся на анемичной почве. Вид ребятишек не радует: бледные, худосочные, покрытые золотушною сыпью. Особенно, говорят, плохо выглядят детки в тех местностях, где работают большия сыроварни, скупающия молоко у местных крестьян. Там все молоко, которое в других местах едят крестьяне, и особенно маленькия дети, продается на сыроваренный завод. Владелец одной сыроварни, защищая ея «культурное» значение, говорил мне, что для ребенка полезнее съесть кусок хорошаго мяса, который ему покупает мать на полученныя от сыровара деньги, чем пить прокислое молоко. Только не ханжите, господа! Скажите лучше просто и откровенно, что вы преследуете промышленныя, а не общественно-нравственныя цели! Осмотрев больницу, я пошол в «книжную лавочку», открытую в Галиче года два тому назад. До тех пор там, как и в большинстве уездных городов, книжной торговли не было. Хозяин лавочки пришол в восторг, узнав, что я собираюсь писать о его родине – Галиче. Он даже предложил мне «источники» – две статьи о Галиче в «Ниве» и «Мирском Вестнике» за 1871 год – обе как-будто взятыя из какого-нибудь учебника географии. Он-же сообщил мне, что местный литератор написал книгу о Галиче, но не может найти издателя. Себя книгопродавец старался зарекомендовать человеком идеи, а не просто торговцем. О Льве Толстом он говорил как о славе и гордости русскаго народа, о Некрасове – как о красе русской литературы. К сожалению, он продает своим покупателям из народа сочинения, которыя ни в каком случае не могут быть названы даже просто литературой: больше всего у него расходятся лубочныя издания самаго низшаго сорта, – какия-то «Таинственныя свахи» и «Женихи о трех ногах», – книг-же, изданных комитетом грамотности, он совершенно не держит. Он оправдывается, ссылаясь на вкус покупателя, но ему, не имеющему в округе конкурентов и поддерживаемому начальствами галичских учебных заведений, следовало-бы попробовать изменить этот вкус. Это совсем не так трудно, как ему кажется: деревенский покупатель требует у книжнаго торговца просто «книжку», а не какое-нибудь определенное сочинение; и стоит перед ним разложить издания комитета грамотности, чтоб он выбрал книжку, конечно, из них, а не требовал изданий лубочных. Впрочем, книжный торговец «сердит» на комитет грамотности, «так-как тот, имея громадныя связи, до сих пор не выхлопотал сокращения срока исключительнаго права на литературную собственность»...
Вечером я пошол на Бальчук, высокий холм, похожий на громадный курган, где когда-то стоял, говорят, дворец знаменитаго галичскаго князя, Дмитрия Шемяки. Действительно, на вершине холма заметна искусственно сделанная насыпь, представляющая из себя прямоугольник без одной стороны; в середине этого прямоугольника находится большое углубление, похожее на высохший пруд. Местные жители нередко находили здесь старинныя серебряныя монеты – «чешуйки», как они выражаются.
Вид с Бальчука на город и озеро, освещенные луной, был прямо волшебный. Совершенно особенный эффект придавали виду слегка колеблющиеся пламенные языки, скользящие по водяной поверхности: это рыбаки ловили рыбу острогой. Резкий ветер налетал с пустынных полей, разстилавшихся за Бальчуком... Делалось жутко, но уходить не хотелось,– так оригинален быль вид этого города-монастыря, залитаго голубым светом. Здесь, как на развалинах замка Штейна, висящаго, над Баденом, чувствуется старина, история, и здесь, как там, можно вызвать историческия тени. Здесь пронеслись трагическия события последней удельной борьбы, с ея клятвопреступлениями, убийствами, вырыванием глаз и другими злодеяниями. Особенно глубоко врезался в память народную образ Шемяки. Бедный народ! Его так мало видно. Из-за княжеских семейных раздоров, из-за боярскаго самолюбия его режут и жгут, и его-же «за княжеское непослушание» старец митрополит наказывает моровою язвой! Добрый народ! За грубое насилие, за поруганиe над правдой и судом он мстит лишь сказкой, полной безобиднаго юмора; за горькую действительность он утешает себя сказочным вымыслом о том, как бедняку удалось провести неправеднаго князя-судью Шемяку. Какая удивительная, какая характерная сказка «Шемякин суд»! Недаром чуткий Шамиссо переложил ее в прекрасных стихах на немецкий язык. У него-то я и перечитал ее недавно, – в самом-же Галиче почти никто хорошенько не знал ея остроумнаго содержания. Зато один галичанин разсказал мне интересный народный анекдот о Шемяке. Галичский портной что-то украл, Шемяка приговаривает его к повешению. – Помилуй, князь! кричит народ. – У нас во всем городе один только портной! – А сапожников сколько? спрашивает князь. – Два. – Ну, так повысить сапожника! решает русский Соломон. После Шемяки в Галиче до самаго последняго времени не было ни одного знаменитаго правителя: таковой появился лишь в наши дни. Он умер года 3 тому назад, прокняжив лет 12. Я говорю о галичском уездном предводителе дворянства А. А. Макавееве. Не мне принадлежит сопоставление его с удельным князем; я слышал, как простые галичские люди говорили о «макавеевском княжении». Над этою оригинальною личностью, а главное, над ея характерною ролью в уезде стоить остановиться повнимательнее. В молодости он «пострадал за правду» и был поселен в своем имении в Костромской губернии. Здесь он своим «умом, обширными знаниями и красноречием» скоро выдвинулся среди местных дворян, и те, несмотря на его «увлечения молодости», выбрали его в предводители дворянства. Макавеев, казалось, оправдал возлагавшияся на него надежды: дом его сделался средоточием всех дворянских и земских (что здесь одно и то-же) деятелей; нигде нельзя было лучше, чем у него, поесть, попить и послушать умных речей. Авторитет Андрея Александровича (его все называли по имени и отчеству и понижали при этом в знак уважения голос) рос с каждым днем: слова его ловились налету и повторялись повсюду, голос его не только в дворянском, но и в земском собрании был решающим, противоречить ему было прямо не безопасно. Мудростью его питался не один Галичский уезд, но и вся губерния. Как у всех великих людей, и у Андрея Александровича были слабости, которыя ему охотно прощались восхищенными поклонниками. После одиннадцатилетняго предводительства, Макавеев соединил, наконец, в своих руках обе важнейшия местныя должности: и предводителя, и председателя земской управы. Но не прошло после этого и полугода, как случилось нечто совершенно непостижимое: авторитет всего уезда, человек, котораго никто не осмеливался контролировать, растратил все общественныя деньги и должен был идти в тюрьму. Ревизия, вызванная письмом одного маловернаго к губернатору или министру, обнаружила растрату Макавеевым 28-ми тысяч из капитала дворянской опеки, не считая процентов, и 48-ми тысяч земских. Вместе с тем лопнуло и образованное Макавеевым общество взаимнаго кредита, откуда он взял 11 тысяч, причем и здесь поплатилось земство, вложившее в общество не дутый вексель, а чистыя деньги. Макавеев спасся от тюремнаго заключения ядом; друзья его остались довольно равнодушны и не нашли возможным сложиться и покрыть сделанную растрату: она была разложена на обывателей, и в настоящее время за дворянские обеды отдувается отчасти и мужик. На простой народ Макавеевщина произвела очень сильное впечатление, и среди крестьян ходит нелепый, но упорный слух, что дворяне сплавили своего предводителя заграницу, а вместо него похоронили быка. И нередко теперь мужик, уличенный в краже леса, на упреки помещика отвечает с злым сарказмом: «Неча меня-то стыдить, что я из Божьяго леску бревнышко взял: вон ваш-то Макавеев сколько тыщ украл!» Со смертью Макавеева дворянское (земское тож) единство пошатнулось: образовались две партии. Партия! Большое слово! Я, к сожалению, ни от кого не мог добиться, в чем различие принципов этих двух партий и кажется, даже приводил своими вопросами многих в недоумение. В здешних «партиях» различие касается не принципов, а симпатий к тому или другому лицу. Вождем одной стороны называют нынешняго предводителя дворянства, вождем другой – председателя земской управы. О первом говорят как о человеке крайне симпатичном, честном, либеральном; о втором мне пришлось слышать тоже восторженные отзывы: – Он уже успел зарекомендовать себя, как идеальный земский начальник, говорят его сторонники. – Конечно, хорошо, что он выбран в председатели управы, но все-же жаль, что мы лишились нашего лучшаго земскаго. Идеальный земский начальник! Это интересно, особенно теперь, когда так часто читаешь о земских начальниках, далеко не идеальных. Я начал собирать фактическия сведения и пользовался при этом исключительно горячими поклонниками бывшей деятельности новаго председателя. Вот что я узнал. Он был для крестьян настоящим отцом. Домовитых хозяев он «ласкал», он запросто толковал с ними о хозяйстве, «как бывало добрый барин в добрыя, старыя времена»; он даже не гнушался пить с ними вместе чай. Но беда была от него «нерадивым». Он собирал сведения о дворах, где при большом числе работников было мало скота и лошадей и посылал хозяев этих дворов в волостной суд, чтобы тот, разобрав причины упадка хозяйства, присуждал виновных к «порке» или аресту. Особенное внимание обратил он на борьбу с «разоряющими крестьян праздниками»; он надеялся даже вывести празднование масляницы, но это ему не удалось за кратковременностью его с отцовства». Больше всего доставалось от него «пьяницам-питерщикам». Приходит «пьяница-питерщик» домой с чужой стороны, а денег с собой не приносить. С него требуют оброк, а оброка заплатить нечем; он и решается продавать сено, накошенное женой, но сено в это время продавать земским начальником строго запрещено. Староста ловит мужика на продаже и, посадив его своею властью на двое суток в «холодную», идет к земскому и разъясняет ему все дело. Земский очень доволен: «Доброе дело сделал», говорит он старосте. Но питерщик, понабравшийся в столице глупейших фанаберий, находит арест незаконным и направляется к ямскому начальнику с жалобой на старосту. Тот ласково выслушивает его, спокойно говорит ему: «Хорошо, я твоего дела не оставлю, с тобой-же напишу старосте». Мужик не знает, как благодарить начальника, а тот тихонько шепчет своему письмоводителю: «Напишите-ка приказ старосте, чтобы он его еще на семь суток в холодную посадил». Мужик, расхваливая по дороге, справедливаго начальника, летит с роковою бумагой к старосте. Ловко, не правда-ли? Разве это не идеальная расправа? Зато какой идеальный порядок царствовал в его участке: нигде подати не собирались так исправно, нигде помещики не чувствовали себя так спокойно, как-будто снова стали возвращаться добрыя, старыя времена. Забывавшиеся мужики стали снова приучаться к вежливости, быстро скидывали шапки при встрече с помещиками, бросались отворять ворота при его проезде, свертывали с возом в сумет (глубокий снег), завидя барския санки. Вообще участок идеальнаго земскаго начальника можно было назвать прямо «благословенным» для помещиков. Найдутся, конечно, интеллигентные люди, которые, присматриваясь к такой деятельности, заговорят о новом крепостном праве, о поругании человеческой личности, найдутся люди, которые скажут, что народ нельзя приравнивать к ребенку, что его надо не столько опекать, сколько приучать жить без опеки. Но эти фразы мало смущают народных опекунов; куда неприятнее для них окрик самого народа: «Врачу, исцелися сам!» «Почему вы, представители отцовскаго сословия», мог-бы спросить народ, «наказываете нас за праздность и разгул, когда в вашей среде и то и другое живет во сто раз больше, чем у нас? Разве у вас меньше, чем у нас «нерадивых хозяев» прокучивающих не десятки рублей, как у нас, а десятки тысяч, притом не вами самими заработанный? Что-б сказали вы, еслиб этих нерадивых хозяев ласково посадили в холодную? Вы, господа макавеевцы, почти ползавшие перед вашим вождем, вы, пившие его тонкия вина и евшие его вкусные обеды, смаковавшие его умныя речи, отчего вы не расплачиваетесь за его кражу своими карманами, а тащите с нас трудовую копейку? И вы-же хотите крутыми мерами учить нас, как нужно жить!» Что-то сходное с этим слышится в гуле народа, недовольнаго ни Макавеевым, ни идеальным земским начальником. И кто знает, может быть, этот гул останавливает большинство здешних начальников от излишняго отцовства. Народ, увы, потерял с Шемякиных времен много своего добродушия, и возвращение крепостного права небезопасно не для одних только крестьян. К розгам они, особенно питерщики, стали страсть как щекотливы, и не всякий волостной суд решится приговорить к порке. Да, господа, с новых временем, с совершившимися фактами надо примириться и не пытаться повернуть тяжелое колесо времени назад! Поменьше крутых мер, поменьше отцовства, поменьше макавеевщины, побольше строгости к членам своего передового сословия! Это правда, что в деревне царить неурядица, но в ней, вы, «белая кость», виноваты больше чернаго мужика, и эту неурядицу не прекратят предполагаемыя вами регулировки крестьянской жизни и подтягиванье рабочих; она сама исчезнет под теплыми лучами знания. Второй день своего пребыванья в Галиче я посвятил ознакомлению с его пригородом, – «Рыбной слободой».
Жители ея переселены на Галичское озеро Иоанном Грозным откуда-то издалека, вероятно за какую нибудь провинность. У галичан они известны под названием «фараонов». У некоторых из фараонов заметен монгольский тип, другие, напротив, выглядят молодцами-великороссами. От Екатерины II они, по преданию, получили грамоту на безпошлинный лов рыбы в озере. Рыбы было в то время масса, и рыбаки зажили припеваючи. Это старое, доброе время прошло безвозратно. Грамота куда-то исчезла, озеро оказалось собственностью города, и тот берет теперь с рыбаков ежегодно больше тысячи рублей аренды, рыбы-же с каждым годом все меньше и меньше. – Скоро нам, кажись, придется, по миру идти, говорят иные рыбаки. Работа их, особенно в зимние холода, крайне тяжела; целые дни приходится им проводить под леденящим ветром на открытом озере чтоб пробивать во льду глубокая канавы. Рыба, задыхаясь подо льдом от недостатка воздуха, бежит в канавы, и здесь ее ловят. Эта «духовая» рыба составляет единственный зимний доход рыбаков. Весною и осенью работа легче и улов больше; в это время ловят так называемый «вандыш» – мелкую рыбку (молодых ершей, окуней и т. д.) в вершок и меньше величиною, ловят плотно сплетенной, «частой» сетью. На ловца иногда приходится до десяти ведер вандыша. Его потом сушат в особых печах, а продают приезжим торговцам. Этот варварский способ лова, или вернее, вылова не дает, разумеется, рыбе достигнуть зрелости, препятствует размножению и служит главною причиною постепеннаго уменьшения не только крупной, но и всякой вообще рыбы. Галичские рыбаки как-бы подпиливают сук, на котором они держатся. «Но что-же иначе сделать, надо же что-нибудь есть, надо же аренду платить», оправдываются они. Ловля производится на артельных началах; вся Рыбная слобода разделена на несколько артелей, и каждая артель ловит сообща, деля улов поровну между членами. Зимой представители артелей бегут в определенный день к озеру, и кто где первый поставит свой шест, тот там и начинает работу. Рыбаки крепко держатся своих обычаев и живут совершенно обособленной жизнью. В былое время они даже не ходили за пределы своей слободы и знали лишь свое озеро и свои лачуги. До сих пор жив еще один фараон, который прожил более 90 лет в слободе и ни разу не был в Галиче. Все они православные, но упорно крестятся двумя пальцами и придерживаются языческаго праздника Яриловки (в честь бога Ярилы). Браки заключаются обыкновенно только между рыбаками и рыбачками, «чужих»-же берут неохотно. Тишина и безлюдье царили в слободе, когда я вошол в нее. С одной стороны тянулось озеро, как-бы огороженное коричневыми прутьями, приготовленными для плетенья мереж (корзинки для лова рыб), с другой – длинный ряд потемневших рыбацких изб. Иныя из них покачнулись на бок и готовы, кажется, рухнуть, другия, напротив, держатся прямо, бодро и щеголяют пестро расписанными ставнями... Уже с версту шлепал я по вязкой, черной грязи, а все еще не встретил ни одного фараона. Через дорогу пробежала девочка лет десяти. – Не знаешь-ли, милая, где живет тут старый рыбак, самый старый во всей слободе? Девочка молчала, разинув рот, видимо не вслушиваясь в то, что я говорил, а разглядывая мой странный для нея вид. На помощь подошол мальчик лет двенадцати, в фуражке, в черном пиджаке и в высоких сапогах. – Да вам не дедушку-ли Ивана Максимыча нужно? – Ну, все равно, веди к Ивану Максимычу. Мальчик постучал в оконце одной из изб; оттуда высунулась старушечья физиономия. – Чаво надо-то? – А хотелось-бы с хозяином потолковать. Можно зайти-то? Глаза старушки недружелюбно посмотрели на меня. – О чем толковать-то? – Да о старине хотелось-бы распросить, как у вас прежде жили? – Какая там еще старина! Мой-то вонь уж вторую неделю лежит, ничаво в себя не принимает, а тут еще утруждать его! – Да я ведь не знал этого, тогда и не надо! И я сел отдохнуть на завалинке у избы. Старуха вышла из дому, села возле и стала меня изучать. – Зачем-же тебе старина понадобилась? Ты не здешний, что-ли, будешь? спросила она наконец. – Нет, я приезжий, из Питера. – Из Питербурга! как-бы поправила меня старуха.– Да ведь у меня родный сын там в плотниках, на Выборгской стороне живет... Вот ты откуда к нам забрался! Глаза старухи стали смотреть много дружелюбнее, чем вначале. – Чаво-же тебе из старины узнать-бы хотелось? – Да я вот насчет грамоты царицыной порасспросить хотел. Старуха насторожилась. – А ты что-ли слыхал чего о ней? – Да так, немного, только что была у вас... – Была то была, да сплыла... Отобрали, видно; теперича и платим тысячу рублей... А рыбенки-то все меньше, жить-то и нечем... Да ты сам-то из каковских будешь? – Я доктор. – Дохтур! Ишь ты! Хозяин-то мой уж больно плох... не любит он только дохтуров-то... Ты-то никак, попроще будешь... да уж не знаю. В это время к нам приближался какой то мужик в рваной одежде. Я взглянул на него и вздрогнул... Казалось, шол мертвец: до того безжизненно было его восковое лицо с жиденькой рыжей бородкой. Мертвые глаза полузакрыты, ноги переставляются медленно, как деревянныя. В руках у него была длинная пила. – Спасибо, тетушка, сказал он старухе, которая поднялась и взяла у него пилу, – спасибо на пиленье, напилил сегодня порядочно, будет. – Вон ты-бы, господин, посмотрел у Андрея глаза-то: он ведь девятый год совсем слепой; может, чем бы и помог. Я подошол к Андрею и, приподняв полуопущенныя веки, вместо глаз увидел пестрые бугорки без всяких следов зрачка. – Нет, уж тут ничего не поделаешь! заметил я. – Чаво тут поделаешь, ваше благородье, проговорил Андрей. – Ведь уж 8 лет прошло, как я потемнел... Залечил, одно слово... Всем тер, все пускал, что глупыя бабы ни скажут. Сходил потом к Бродовскому (* Врач в Буе, пользующийся громадною популярностью по всей Костромской губернии), да и тот ничего сделать не мог. – Трудно тебе теперь жить? – Работаю помаленьку, дрова соседям пилю, колю, мережи плету; ничего, мир не забывает, неча Бога гневить, жить можно. – Мир великое дело, заметила старуха. – Вон и этого парнюшку кормит: он ведь сирота, ни отца, ни матери, указала она на мальчика, проведшаго меня к избе. – Взял его мир: один день здесь кормится, другой там, ну и сыт, а потом в люди выведут, в прок пойдет. Старуха, видимо, со мной совершенно свыклась. – А что бы ты к нам зашол, батюшка, обратилась она ко мне, – хозяина-то посмотрел-бы! Зайди, сделай милость! Мы пошли в избу, за нами вошли и слепой, и сирота. В темноватой избе, прямо у двери, на широкой кровати лежал какой-то великан, закинув громадныя костлявыя руки за голову. У изголовья молодая, женщина со скрипом раскачивала люльку, в которой жалобно пищал маленький ребенок. Я подсел на кровать великана. Совершенно монгольский тип: выдающияся скулы, вкось прорезанные глаза, черные щетинистые волосы... Он протянул мне свою громадную, когда-то могучую руку, в которой моя показалась ручонкой ребенка. – Ну, что? Как чувствуешь себя, дядюшка? – Ослаб. С успеньева дня ничего не принимает нутро мое: водицы выпью – и та покатится, покатится, да и остановится. Силен быль я, ох, довольно было силушки, – какия лодки один таскал, – а нынче двинуться не в моготу. – Что-же ты доктора-то из Галича не позвал? – А Бог с ним, с дохтуром-то! Не дотягаться нам до них: без них родимся, без них и помираем. – Платить тоже ведь надоть! вмешалась старуха. – Лекарство пропишут, тоже почитай целковый стоит! – Ну, это не так, заметил я, – и доктор, и лекарство вам ничего не будут стоить. – Не знаю, а мы так полагали, не слыхали, чтоб даром. Я осмотрел больного; у него, вероятно, был рак желудка. – Что, плохо? спросила старуха, внимательно следившая за моим изследованием. – Нет, уж видно не встать тебе, Максимыч, обратилась она к мужу, а помирать придется, не жить человеку, коли он пищи неймет. Все там будем, и я, почитай, скоро за тобой пойду. Лицо Максимыча на мгновение сжалось в плаксивую мину; он, видимо, сделал над собой большое усилие, чтобы не заплакать... Только две крупныя слезы покатились по смиренным, изрытым оспой щекам. – А пожить-то еще хочется? промолвил я. – Как-же не хотеться, батюшка, сказал больной, – все Божий свет кругом... все люди... Вон и внучек пищит, тоже радует, держит... – Всяка жива тварь жить хочет, вмешался слепой, и лицо его на минуту потеряло мертвенное выражение. – Вон я девятый год слеп, девятый год все темь одна вокруг, а все-бы жил да жил. Я стал прощаться с Максимычем. – Постой, сказал то, – ты чего-то о старине узнать хотел? – Хотел-то хотел, да что тебя утруждать. – Не, постой, потолковать можно, на душе свободнее становится. И действительно, Маскимыч как-будто ожил, разсказывая о старом добром времени, когда щуки ловились по полупуду и больше, когда «вандышу» приходилось по 30 ведер на человека, когда не приходилось платить никакой аренды... – А ныне пропала рыба, пропала грамота, пропала правда. Мало правды у нас, а еще меньше у бар: чего наделал ихний-то Макавеев, а они вон его заграницу отправили. – Полно, полно, Максимыч, придержи язык-то свой, вмешалась старуха, – знаешь, как за такия речи попасть может. Вы-бы, сударь, обратилась она ко мне – лучше к Федору Семенычу сходили: ему уж скоро сто годков стукнет, так он больше нас разсказать может; вон Петюшка вас проводит. Мы подошли с сиротою к высокой, бодрой избе Федора Семеновича. Из одного оконца выглядывала моложавая старуха, из другого – толстая девка, с лицом, похожим на вызревшее тимофеевское яблоко. Девка весело щелкала зернышки, выплевывая скорлупки на улицу. – Можно хозяина повидать? – Отчего и не повидать, отвечала старуха,– да глух он у меня больно... Семеныч! Слышь ты, тебя спрашивают! За спиной старушки показалась голова красиваго старика. Крупныя, правильныя черты лица, прямой нос с выточенными ноздрями, проницательные темные глаза, с усмешкою глядящие из-под густых бровей; сизая борода лопатой, на голове длинные, тоже сизые волосы, расчесанные прямым пробором, падают к плечам, как-бы слегка отставая от головы. Он мне напомнил театральнаго, загримированнаго старца из народа. Это знаменитый фараон 96-ти лет, ни разу не выходивший из слободы. – Как поживаешь, дедушка? Слыхал я о тебе, посмотреть пришол. Старуха прокричала ему мои слова на ухо. Глаза старика засветились удовольствием. – Спасибо, милый человек! заговорил он.– Ничего себе, живем, хлеб жуем, по Божьему живем, по старому, жаловаться не на что. – А что, дедушка, в старину больше по-Божьему жили, чем теперь? – Известно, уж в старину того пьянства не было, ответила за старика старуха. – Ну, это ты врешь, и в старину пили, много пили, только опаска была, внушительно сказал старик. – В старину рекрутчины боялись. Коли заленился и запил, – сейчас тебе лоб забрили, а нонче иная мода пошла: теперича этой опаски нет, теперь всякаго берут – и купецкий сын, и дьяконов, и дворянские, всяк идет. Это только так говорится: по старому – по Божьему, а бездельников всегда много было. – Вот девки слабы нонче стали (тимофеевское яблоко, при этих словах старухи, заржало), не усмотришь за ними. – Ну, и насчет девок всяко бывало: не так еще яриловку справляли, как нонче... Вот рыбы стало меньше, это точно, да вон у меня старуха капусту сажать стала, так лучше рыбы выходит. Тимофеевское яблоко опять заржало. – Ты чего все хохочешь? спросил я, невольно сам заражаясь веселостью. – Весело, оттого и хохочу. – Чего замуж-то не выходишь? – Мне и в девках хорошо. Вон сестры замуж повышли, так каждый год ребят таскают, по десятку у каждой, а я у родителев без заботы… Все три лица, и старика, и старухи, и девушки-дочки выражали самое безмятежное довольство. И у меня на минуту стало на душе легко и весело. – Прощайте, добрые люди! крикнул я. – Прощай, милый человек, спасибо, что зашол! Ночью я ехал обратно из Галича в большой телеге на тройке «вольных». Ямщик, свернувшись клубком, спал впереди, лошади шли шагом, я лежал растянувшись на спине и любовался небом. Полная луна золотистым шаром висит в синеве; чувствуешь, как-будто даже видишь, что выше ея разлетается еще целая безконечность… легкое молочное облачко подбежало к ней, засеребрилось и исчезло, растаяв… где-то вдалеке крикнули журавли… Внутри у меня дрогнуло, затрепетало, потянуло куда-то вдаль, подальше от этой тишины, туда, где жизнь бьется и шумит. Много уже впечатлений врезалось в душу, много жизней задело ее, а все кажется мало, все хочется дальше и дальше. И чем шире раздвигается кругозор, тем шире и глубже счастье и несчастье, тем реже успокоит душу то довольство, которое глядит из глаз рыбака-«фараона», ни разу в 95 лет своей жизни не перешедшаго границу крошечной Рыбной слободы…
В. Поссе.
|






















